

Исследования о Велимире Хлебникове
Другие
исследования об авангарде
Д. А. Пашкин
Стратегия умирания-в-тексте и осознание свободы (В. Хлебников и М. Бланшо)
Статья посвящена анализу эссе М. Бланшо и текстов В. Хлебникова; вскрываются параллели между идеями двух писателей в контексте научных и философских парадигм XX века. Особое внимание уделяется проблеме понимания бессмертия и свободы в их связи с творческой деятельностью художника, витальной потенции языка и литературы.
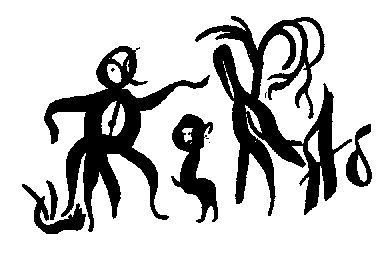
Интрига между языком и смертью завораживает.
Мы чувствуем ее, пере-живаем, ощущаем как нечто данное, первоосновное.
Не случаен сегодня интерес, например, к поэтике эпитафий1: смерть, закрепленная в языке, взывающая к живым – явление грозное и трогательное одновременно.
Смерть прячется за языком и приходит вместе с ним… Проживая тексты, в которых то суетятся, то многозначительно застывают маленькие и большие смерти, не умираем ли мы постоянно и по-настоящему? Вместе с Ленским-(Пушкиным) и Иваном Ильичом-(Толстым), Мирандой-(Фаулзом) и Пат-(Ремарком)? А сам автор – не смотрит ли он в глаза Танатосу, постигая в самой бездне небытия его иносмыслы?
Способен ли язык вместить смерть? Как пишет В. Янкелевич, “…предельная мутация, которая зовется смертью, не вписывается в языковые рамки” [25 : 221]. Язык пасует перед предельностью необратимости, перед всеприсутствием и в то же время ужасающей неявленностью смерти. Смерть владеет языком2, овладевает им, и он становится еще одной жертвой тотальной аннигиляции, мортального карнавала; он уже не способен выполнять главные свои функции: описывать, представлять, определять…
Но язык может НАЗВАТЬ – смерть.
И здесь возникает разрыв – окно в запространство, черная дыра хронотопа, где смерть оказывается знаковым событием, которое, пусть и за пределами четкого осознания, в мареве пограничного шизоидного дискурса, но все же преодолевается и – пере-живается… Может быть, Янкелевич не так уж прав?
Ниже речь пойдет о стратегии умирания-в-тексте3. Пониманием этого процесса, самой постановкой вопроса, его развитием и осмыслением мы обязаны французскому философу, писателю Морису Бланшо.
Обратимся к двум его эссе: “Литература и право на смерть” (1947) и “Умирать довольным” (1952).
По мысли Бланшо, каждый писатель, приступая к процессу творчества, вынужденно оказывается в полной пустоте: “…так обстоит дело для каждого нового творческого акта, где всякий раз приходится начинать с нуля” [7 : 77]; таким образом произведение начинается с небытия. Но этим дело не ограничивается. Ведь писатель имеет дело с чем-то, что не существует, то есть творит в пустоте: “…литературное творчество … касаясь того или иного предмета или человека, воображает, будто творит их заново, поскольку видит и нарекает их с точки зрения всего и при отсутствии чего бы то ни было – то есть с точки зрения небытия” [7 : 84]; кроме того, поскольку истинно творческий процесс не имеет четко ориентированной цели, то есть ни к чему конкретному не устремлен, то он и развивается в небытии; по выражению Гегеля, писатель предстает “как небытие, действующее в небытии” [7 : 77]. Но и это еще не все: поскольку законченное произведение необходимо “отправляется” во внешний мир (иначе оно не может быть признано как произведение, у поэта должен быть слушатель; у художника – зритель и т. д.), где вступает в самые разнообразные отношения, будучи подвержено разного рода толкованиям, наполняясь новыми смыслами, наконец, просто становясь предметом – книгой, оно “превращается в нечто иное <…> собственное произведение исчезло, оно становится чужим произведением, где присутствуют другие и отсутствует он (автор – Д. П.) сам; оно становится книгой, обретающей ценность благодаря другим книгам, – в непохожести на них ее оригинальность, в их отображении ее удобопонятность” [7 : 78]4. Таким образом, произведение и оканчивается в небытии.
Но Бланшо идет еще дальше: развивая тезис (опять же) Гегеля о поименовании как акте убийства, уничтожения (т. е. отнятии сущности ради идеи), он приходит к выводу, что сам язык “погружен в небытие”5, ибо постоянно вынужден оперировать мертвыми представлениями, “частицами вселенского бытия”, заново “сотворенными из смерти”. В частности, он пишет: “Моя речь – предупреждение о том, что в этот самый миг в мир выпущена смерть, внезапно возникающая между мною, говорящим, и тем, к кому я обращаюсь; она разделяет нас, словно расстояние, но это расстояние и не дает нам расстаться, так как им обусловлено всякое взаимопонимание между нами” [7 : 89].
Получается, что и литературное произведение, и сам творческий процесс, и язык, и писатель, и само письмо – все насквозь пронизано танатосом6, пустотой на пределе своей иррациональности. А сам писатель постоянно умирает в тексте, переживая свою собственную смерть. (Собственно, этот момент нас и интересует больше всего, но сначала обрисуем ту витальную перспективу, что предлагает нам в итоге Бланшо, ибо без этого пункта понимание его идей будет в корне неверным.)
Так что же, “неужели книга – это ничто?” – восклицает он [7 : 83].
Отнюдь нет, так как “…едва лишь литература на миг обратится в ничто, как тут же оказывается, что она – все, и тут-то „все“ и начинает существовать; великое чудо!” [7 : 75]. Самоуничтожение становится необходимым для свершения чуда, для реализации смысла, потерянного в процессе наименования. Правда, момент этот мимолетен и не может быть “схвачен” (иначе он превратится в мертвый язык): “…в процессе письма автор переживает себя как действующее небытие, а по завершении его переживает свое произведение как нечто исчезающее. Произведение исчезает, но сохраняется сам факт его исчезновения, и он-то, оказывается, и есть самое главное – тот жест, которым произведение осуществляет себя, войдя в течение истории, – осуществляется, исчезая” [7 : 79]7. Таким образом, при всей внешней зачарованности Танатосом, готовности к деконструкции всех, казалось бы, незыблемых основ самого человеческого бытия, общий пафос Бланшо оказывается глубоко позитивным, так сказать, исступленно оптимистичным; наверное, такого рода оптимизм (не только Бланшо, но многих представителей постмодернистских и постструктуралистских доктрин, неизменно оперирующих категорией аннигиляции) – это действительно нечто абсолютно новое в истории человеческой мысли; оптимизм, выросший из самого неподходящего для своего роста почвы, из почвы небытия – такой оптимизм, конечно, обладает бесконечно мощным жизнеутверждающим импульсом.
Намеченная в обширной работе “Литература и право на смерть” идея “умирания в тексте” обретает более развёрнутое определение в эссе “Умирать довольным”. Здесь, отталкиваясь все от тех же “Дневников” Ф. Кафки, Бланшо уже прямо формулирует: “Писатель – это тот, кто пишет, чтобы суметь умереть, тот, кто обретает возможность писать в результате преждевременной связи со смертью”, а смерть – есть “…плата за искусство, есть прицел и оправдание письма” [6 : 52]8.
Но суть в том, что смерть писателя оказывается в конечном счете мнимой! Ведь дописав книгу, кончив роман или повесть, сдав рукопись в печать, автор не умирает физически, а приступает к новому роману, новой книге. Он продолжает творить!
Но и это не верно. Смерть в тексте может быть мнимой только для стороннего наблюдателя; для автора смерть-в-тексте вовсе не пустышка, он-то переживает ее всерьез, “само произведение есть опыт смерти” [6 : 53]. Смерть не становится мнимой, а именно пере-живается; писатель уподобляется сказочному Фениксу, воскресающему в тот самый момент, когда произведение заканчивается и “уходит” во внешний мир, умирает-для-автора. Такая смерть названа Бланшо “смерть как невозможность умереть” [7 : 91]. Собственно, так и обретается бессмертие, правда, бессмертие совсем иного рода, нежели превратившееся в штамп “бессмертие в творении” (подразумевающее, что писатель скончался, а книги его живут). Такое бессмертие получает у Бланшо эпитет “смехотворное” [7 : 98], ибо, как мы видели, подлинное творение искусства ускользает от автора в небытие сразу же по своему завершению, да оно и не покидало его: “…ради этого небытия он работал и сам был небытием, совершающим работу” [7 : 98] – это автор смело отправляется к нему, в пространство пустоты.
Бессмертие гения в том, что, спустившись в Аид, в глубину предела, он, подобно Орфею, возвращается на поверхность, к свету Бытия. Но – в отличие от последнего – со своей Эвридикой, личным опытом смерти. “Гений встречает смерть лицом к лицу, произведение есть смерть, сделавшаяся тщетной…” [6 : 53].
Писатель пишет, чтобы умирая, не умереть. Основной смысл творчества тогда – “…писать, чтобы не умереть, довериться загробной жизни произведений” [6 : 53]9.
В конце концов, из “столь странных отношений” между художником и его детищем10 возникает невиданное ощущение – ощущение свободы. Постигнутая пустота, смертельный трюк на пределе самого предела, экзистенциальный фокус… Этот метафизический аттракцион кружит голову и рождает небывалое чувство абсолютной свободы, свободы-в-вечности. Именно это соображение закрепил Бланшо в действительно бессмертной фразе: “свобода – это смерть” [7 : 87]11.
В XX веке есть и другой “безумец”, не меньше, чем Кафка или Бланшо, заинтригованный энигматическим мерцанием Танатоса под текстуальной тканью. Мы имеем в виду Будетлянина – Велимира Хлебникова. Ему было в высшей степени свойственно это ощущение, ощущение умирания-в-тексте, хотя мы и не находим у него ни прямых формулировок, как, например, у Кафки, ни даже в значительной степени схожих размышлений. Пусть оно не было выражено непосредственно: Будетлянин был занят другими, не менее важными вопросами, и рефлексия над собственным творчеством не входила в круг первоочередных “осад”12. Но это обстоятельство, усложняя наше исследование в одном направлении, упрощает его в другом. Сложность экспликации этой черты хлебниковского художественного Универсума и, в конечном счете, одного из значимых элементов единой концепции жизнесмертных отношений (в самом важном его аспекте – творческом) искупается своего рода устойчивой валентностью итоговых наблюдений: не искаженное возможными в-себе-субъектными комментариями и поправками, это ощущение (при внимательном наблюдении) можно “застать врасплох”, оно может быть “схвачено” в своей первозданной сущности, кристальной чистоте купели авторского “Я”.
Связь творчества с умиранием, с приобретением опыта смерти в письме глубоко ощущалась Хлебниковым, хотя, видимо, и не была осознана. Об этом сигнализируют отдельные метафоры, образы и мотивы, разбросанные тут и там в отдельных текстах.
В поэме “Жуть лесная” представлен следующий фрагмент: “Прекрасен избранн<ый> из ста, / Он на могилу свежевскопанную, / На книгу, пальцами растрепанную / Лицом усталым чуть походит…” (НП : 236 – 237)13. Показательна эта образная цепь: красота ® могила ® книга ® лицо. Связь смерти и литературы манифестируется посредством причудливой метафоры.
Текст – мертв, поэтому становится возможным следующий образ: “А песни распались, как трупное мясо…” (“Взлом Вселенной”, III : 93). Азбука, буквы – это элементарные частицы, клетки плоти – тоже элементарные частицы; завершилась физическая жизнь Homo sapiens – наступило разложение; закончилась книга – … (см. выше).
Небытие пронизывает собой литературу. Понятным в этой связи становится намеренный акцент в стихотворении “Бурлюк” на мотиве мертвого глаза. “Бытовое” объяснение его мы имеем в биографическом тексте: как известно, Бурлюк был одноглаз, носил стеклянный. Но бытовой импульс – это не самодовлеющий принцип. Оттолкнувшись от яркого образа, Хлебников, возможно, сам того отчетливо не осознавая, дает превосходное описание небытийности литературы, ее удивительной способности сохранять жизнь в вакууме пустоты: “То была выставка приемов и способов письма / И трудолюбия уроки. / И было все чарами бурлючьего мертвого глаза” (2 : 331).
Мертвый глаз становится не просто деталью физиогномического ландшафта, но необходимым художественным методом. Только при помощи мертвого появляются “приемы” и “способы”, только в небытии осуществляется парадоксальное становление, если пользоваться терминологией Янкелевича. И тогда ясен вопрос: ““Не есть ли природа песни в <уходе от> себя, от своей бытовой оси? Песня не есть ли бегство <от> я?” (“Говорят, что стихи должны быть понятны…”, 1 : 517). Направленный, по видимости, против бытовой “заземленности” искусства, он оборачивается прототипом размышлений Бланшо: “Писатель … это тот, кто пишет, чтобы суметь умереть…”; чтобы суметь убежать не только от мира, но и от своего “Я”, растворившись в мортальном измерении Текста. Поэтому и цикл “Бегство от себя”, продолжающий эту мысль, открывается так: “Котенку шепчешь: „Не кусай“. / Когда умру, свои дам крылья…” (1 : 359). Поэтому так часты хлебниковские эскапады в область буддийстких и индуистских медитаций, на которые обратил внимание Вяч. Вс. Иванов: “Индусы произносят оум, оум, повторяя с разной силой много раз. Они поклонники Нирваны, становления ничем. Но при повторении оу показатель в 32 (22=n · n) переходит от значения единицы до значения нуля. Число колебаний 33 (22+n · n) звучит как о при n=1, и звучит как у при n=0. М, как мы видели, значит деление на бесконечное число частей. Если величина показателя звука есть значение этого звука, то священный лепет индусов оум, оум, оум значит: Я – единица духа, становлюсь ничем, из единицы становлюсь ничем через бесконечное деление. Говоря, дух отождествлял себя со степенью звука, которым говорил, так как в порядке оу заключен переход значения показателя от единицы до ничего. Путь единицы в ничто через деление: таков смысл этого звучания. Но это есть основная истина веры буддистов”14. Эта же мысль повторена Хлебниковым в “Досках Судьбы”: “Путь единицы в ничто через деление, через самоуничижение, тайный смысл оум дал нам возможность приблизиться к следующему положению…”15 (“Малые небеса азбуки”, ДС : VII, 120). Для нас важно хлебниковское ощущение связи звука и небытия, слова и небытия; идея, специально не отмеченная автором, но, без сомнения, глубоко им переживаемая.
Лейтмотив драматических поэм “Настоящее” и “Прачка” – лозунг толпы: “мы – писатели ножом”. Вновь связь литературного творчества и смерти постулируется непосредственным образом; причем здесь “писателем” становится толпа, а искусство писать – талантом живописать, пером-ножом по-живому, или, скорее, мертвописать, что, впрочем, вполне соответствует бытийно-небытийной сущности самой литературы.
Обратим внимание и на поздний хлебниковский мотив пропажи и уничтожения рукописей16. Он появляется во многих текстах и неизбежно связывается со смертью лирического героя, в позднем творчестве – почти всегда – самим Хлебниковым. Этот аргумент, конечно, носит косвенный характер, но для нас важно, что и на этой оси координат связь литературы и смерти вновь оказывается животрепещущим, драматическим моментом.
Наконец, в текстах появляется и сама Смерть пишущая: “Смерть! Я – белая страница! / Чего ты хочешь – напиши!” (“Настоящее”, 1986 : 307); “Первая заглавная буква новых дней свободы так часто пишется чернилами смерти” (“Октябрь на Неве”, 1986 : 547); “И пусть моровые чернила / Покроют листы бытия…” (“Ладомир”, 1986 : 289).
Литература действительно творит смерть. Как пишет Бланшо, определяя ее двойственность и “лживость”: “Она осуществляет отрицание, отбрасывая в небытие всю нечеловечность и неопределенность вещей, определяя их, делая их конечными, и в таком смысле через нее и впрямь делает свое дело в мире смерть” [7 : 97]. Так же и у Хлебникова – образы “страшной” Азбуки мы можем встретить во многих текстах.
Вот несколько примеров: “Азбука шагает – что страшнее?” (“Пружина чахотки”, IV : 269); “А, шагает Азбука! Страшный час!” (“Зангези”, 1986 : 485). “Драки свинцового набора” (“А русалка…”, IV : 307) и “битва азов” (“Любовь приходит страшным смерчем…”, 1986 : 211) сменяются “буквой ножа”, способным “…смысловое брюхо / Столетий вспороть” (“В столицах, где Волга воль…”, 2 : 360), а “казнь королей” измеряется “в единицах азбуки” (“Чудеса первых трех”, ДС : VII, 109).
Правда, у Будетлянина такое ви´дение направлено как бы “сквозь” литературу, на сам язык; это естественно, язык был основным “материалом” авторской рефлексии. Но если язык способен умерщвлять, если это тот самый язык, который есть “…жизнь, которая несет в себе смерть” [7 : 96], то и произведение, написанное языком, тем более становится таким орудием. И мы находим у Хлебникова такой пассаж, относящийся к “Доскам Судьбы”: “Этой книжкой правители списаны в расход за ненадобностью <,> отныне мертвецы” (РГАЛИ 527-1-120-л.10). Литература способна творить смерть и пользуется этим правом. Точнее, не правом, а обязанностью, самим своим бытийно-небытийным основанием; она не может им не пользоваться, ибо творческий процесс подразумевает разрушение, разрушение созидательное, но – разрушение. Нет смерти – нет и творчества.
Поэтому возникающая в конце рассказа “Октябрь на Неве” книга мертвых вряд ли может быть истолкована как аллюзия на памятник тибетской литературы17. Закономерно само появление этого образа: книга мертвых – это книга вообще, метафора литературы, образ творческого небытия. Книга мертвых – это аналог-двойник Единой книги18.
Способность литературы преобразовывать, умерщвляя, представлена и в известном хлебниковском сюжете о войне, утонувшей в чернильнице. Мы встречаем его в рассказе “Ветка вербы” (1986 : 573), в “Досках Судьбы” (“Война”, ДС : IV, 60), в черновиках19.
Все рассмотренные нами примеры демонстрируют, так сказать, внешнюю проекцию аннигилирующе-креативной силы литературы. Вся мощь ее, конечно, первым делом оборачивается на самого творца, на автора, погружающегося в глубину Текста, за сам предел Бытия – в мортальное пространство пустоты.
“Искусство – суровый бич: оно разрушает семьи, оно ломает жизни и душу”, – заметил Хлебников в одном рассказе (“Коля был красивый мальчик…”, 1986 : 515). Конечно, ведь “гений встречает смерть лицом к лицу…” [6 : 53]. Отсюда и появляется метафизический страх, страх перед собственным талантом, страх перед собственным даром.
“Над самой пропастью письменного стола / (Где страшно заглянуть)…” (“С утробой медною…”, 2 : 200). Вот оно! Хлебников, который не боялся ни пули, ни ножа20, страшится заглянуть за край стола. Там – небытие… И тогда понятным становится загадочное стихотворение, комментарии к которому старательно опускает уже не первое поколение издателей, “Бежит, бежит ко мне мой песнемордый зверь…” (1 : 183). Приведем его полностью.
Бежит, бежит ко мне мой песнемордый зверь.
От ужаса трясусь я.
О друг! спаси! Иди, поверь!
Куда пойду? И где спасуся?
Сознание в опасности! – проверь.
Гробее гроба тишина ся.
Этот текст – чрезвычайно живое и яркое описание творческого процесса, страха и смерти писателя в собственном письме. Зверь – сам Текст (“песнемордый”), стремительно приближающийся к автору, едва он только садится за свой письменный стол. Ужас, охватывающий писателя, заставляет его просить о помощи, молить о пощаде, ибо в эту, действительно страшную секунду, он уже проклинает свой собственный талант, свой дар, жестоко мучающий его видением небытия, ощущением собственной смерти. Но идти некуда; “и где спасуся?” – вопрос риторический… “Сознание в опасности” – это, конечно, сигнал полного слияния-с-текстом, предвосхищение собственного мортального опыта. И “тишина” в финале – собственно ОНО, это сам процесс письма, само небытие и “Я” писателя в нем.
Вообще, при внимательном прочтении ряда текстов мы сможем обнаружить значительное количество не менее ярких описаний умирания-в-тексте. Образцы такого рода переживаний дают нам фрагменты словотворческого потока сознания, как мы условно назовем ряд ранних текстов поэта21.
“И видения всё учащались и учащались, и после видения и вытаскивания обратно проглоченного кем-то куска бессмертия, с помощью крючка и при звуках общего хохота, – после метели ужасных и страховидных кумиров был Ястмир людноногий, парящий над всем, и расхаживал некий мирач, никем не мнимый, но оставляющий порой пером ужас о свое существовании” (“Искушение грешника”, 1988 : 54).
“И, подобно щиту останавливая в себе и мешкотствуя полету вселенничей омигеней бессрочно, новый вид бессрочия, брызга бессмертных хлябей, и делай то, что тебе подскажет нужда. Самотствуя, но инотствуя, станешь путиной, где безумствуют косяки страстеногих (гривых) кобылиц, но, неся службу иной можбе, будешь волен пасть в пасть земных долин” (“Хочу я”, IV : 163).
Думается, что детального анализа этих фрагментов и не требуется, они говорят сами за себя: достаточно прочесть их под определенным углом зрения. Тогда и видения, и перо, и мнимость становятся на свои места в общей картине текстуального погружения. Последний пример особенно хорош. “Самотствуя, но инотствуя” – это ли не метафора двойственного труда писателя, вынужденного обращаться к “таинственной лжи” (Бланшо) литературы, чтобы описать то целое, поиском и поглощением которого она занята? Это ли не выражение шизофренической стратегии автора, расщепляющего свое сознание и должного одновременно быть десятью, двадцатью “Я”, где совмещение черного и белого и одновременное их удержание перед собственным мысленным взором – только несложная процедура, предваряющая действительно головоломную, психоломную полифонию собственного Текста, окунающегося в Ничто?
Замечательно продолжение этого фрагмента (и, в то же время, окончание пьесы), реплика Всесущини (олицетворенного Искусства?): “Можебная страна велика, и кто узнал рубежи?”. Можебная страна – это то самое, бесконечное по определению, пространство гено-текста22, “умное пространство”, совмещающее в себе и загробный мир посмертного бытования, и континуум Ö-1 многомерных, иномерных вселенных, и воронкообразное пространство перехода (клинической смерти) – одним словом, все что угодно, так как именно в небытии, в пустоте Текста свершается разрыв, позволяющий “выкинуть” какой угодно трюк; но креацию этого разрыва дóлжно оплатить собственной смертью. А “рубежей” у принципиально беспредельного быть, конечно, не может; “кто узнал рубежи?” – риторика и сократовское вопрошание.
Стратегия умирания-в-тексте совершенно неприкрыто (насколько, конечно, это может быть у Хлебникова) встречается в повести “Ка”. “В другой раз, по совету Ка, я выбрил наголо свою голову, измазал себя красным соком клюквы, в рот взял пузырек с красными чернилами, чтобы при случае брызгать ими; кроме того, я обвязался поясом, залез в могучие мусульманские рубашки и надел чалму, приняв вид только что умершего. Между тем Ка делал шум битвы: в зеркало бросил камень, грохотал подносом, дико ржал и кричал на “а-а-а”.
И что же? Очень скоро к нам прилетели две прекрасных удивленных гур с чудными черными глазами и удивленными бровями; я был принят за умершего, взят на руки, унесен куда-то далеко” (1986 : 526). Здесь читателю показано все, весь метафизический стриптиз: если первый абзац демонстрирует нам подготовку, подобную той, что мы видели в стихотворении “Бежит, бежит ко мне мой песнемордый зверь…” (только там еще сильна была именно интенция страха и ужаса; текст относится к 1908 году – Хлебников еще молод и не привык к собственной “смерти”, в отличие от “Ка”, вышедшего из-под пера уже опытного мастера), то второй абзац содержит сцену откровенного умерщвления автора силой собственного детища (или, вернее, силами, освобожденными через собственное творение).
“Стихи – это все равно, что путешествие, нужно быть там, где до сих пор еще не был”, – говорил Хлебников [10 : 31].
– Где же это? – спросим мы, – что же это?
– Мир за я, – ответит автор23.
Там… за…
Еще более откровенное высказывание мы встречаем в письме Хлебникова к Вяч. Иванову от 10. 06. 1909 г. Увлеченный лихорадочными сочинениями, беспрестанным творчеством, подстегиваемым и “башней”, и самим Петербургом, Хлебников с головой уходит в собственное умирание: “…Я знаю, что я умру лет через 100, но если верно, что мы умираем, начиная с рождения, то я никогда так сильно не умирал, как эти дни. Точно вихрь отмывает корни меня от рождающей и нужной почвы. Вот почему ощущение смерти не как конечного действия, а как явления, сопутствующего жизни в течение всей жизни, всегда было слабее и менее ощутимо, чем теперь” (НП : 355 – 356).
Он часто примеряет смерть на себя. “Как труп – уснувший я…” – пишет Хлебников в небольшом фрагменте “Гобая слышу зов…” (1 : 280). Или знаменитое, “футуристское”: “Мы уселись тесным рядом. / Видеть нежить люди рады” (“Нéголи легких дум…”, 1 : 89). “Старым трупом” оборачивается герой в стихотворении “Ирония встреч” (1 : 284), а “сонный труп”, перебравшийся из пушкинского текста, мы видим в “Одиноком лицедее” (2 : 255). Будетлянин заканчивает свой сон (опять заканчивает!): “Мой мертвый взор чернеет точкой” (2 : 412).
Среди хлебниковских бумаг, сохранившихся в архиве М. Матюшина и переданных в РГАЛИ, остались крайне немногочисленные и невнятные наброски задуманной пьесы (?) “Футуродрама”, где встречается предельно короткая, но страшная фраза: “Я в трёх”24 (РГАЛИ 527-1-101-л.6).
“Я в трёх” – апофеоз окунания в ничто, фиксация собственного ощущения умирания в момент творческого процесса. Недаром именно этой фразой заканчивается так и не осуществившийся текст; констатация события смерти заменила собой потенциальный текст. “Я в трёх” в некотором смысле противостоит гениальному Явсё, т. е. “Я” в степени “всё”, уникальной хлебниковской формуле единства бесконечного мирового целого25. Но противостояние это и оппозиция – мнимые, ибо Явсё достигается только через Я3 – путь к Бытию лежит через пространство небытия. И это Будетлянин очень хорошо осознавал: “Ничто нам так же далеко, как и все. Но дорога к нему так же прекрасна, как и к городу Всего” (“Мера толп”, ДС : IV, 69).
Здесь уместно вновь процитировать М. Бланшо, как бы говорящего от лица всех художников мира: “Смерть ведет к бытию – в этом цель человека, ибо само небытие помогает ему в созидании мира, в трудящемся и познающем человеке оно становится творцом мироздания. Смерть ведет к бытию – в этом внутренняя разорванность человека, корень его несчастной участи, ибо смерть приходит к бытию, переступая через человека, и через его же посредство на небытии зиждется смысл; мы постигаем мир, лишаясь существования, делая смерть возможной, оскверняя постигаемое нами смертельным небытием, а стоит нам выйти за пределы бытия, как мы тут же выпадаем и из той сферы, где возможна смерть, так что выход оборачивается безысходностью” [7 : 101].
Потому и текст становится не просто опытом смерти, но опытом утверждающей смерти. “Бег крови я, текут чернила; / Меня чернильница пленила…” (“Призраки”, II : 184) – вот модель литературы. Живая кровь смысла – символ “схваченного” Бытия, созидания и осуществления, вечного сотворения Вселенной, чтение все новых и новых имен Бога.
Вечное умирание-воскресение рождает чувство абсолютной свободы. Поэтому, уже свыкнувшись с ежедневным чудом творчества26, Хлебников делает в 1917 году запись на сборнике “Временник”: “Кощунственная насмешка над смертью” [5 : 180]. Над смертью можно посмеяться – ведь я переживаю ее вновь и вновь, и, оказывается, она не так уж страшна, даже и вовсе не страшна.
Так появляется и пьеса “Ошибка смерти”. Но… “Победа” оказывается мнимой, замена знака (плюс на минус, чет на нечет) обращает триумф в поражение, и чем глубже переживается триумф, тем сокрушительнее низвержение27. Насмешка – это по молодости. Позже она сменится глубочайшим пониманием метафизического освобождения, полной “рассредоточенности” в замирном пространстве.
Прозаический текст “Никто не будет отрицать того…” содержит драматический эпизод: “Я был без освещения после того, как проволока накаливания проплясала свою пляску смерти и тихо умирала у меня на глазах. Я выдумал новое освещение: я взял “Искушение святого Антония” Флобера и прочитал его всего, зажигая одну страницу и при ее свете прочитывая другую; множество имен, множество богов мелькнуло в сознании, едва волнуя, задевая одни струны, оставляя в покое другие, и потом все эти веры, почитания, учения земного шара обратились в черный шуршащий пепел. Сделав это, я понял, что я должен был так поступить. Я утопал в едком дыму, [носящемся] над жертвой. Имена, вероисповедания горели как сухой хворост <…>” (1988 : 106).
Хэппенинг, представленный Хлебниковым (при этом настоящая сцена разыграна в “театре одного актера”, зрителей нет, а мы узнаём о событии уже после), пожалуй, не знает равных во всей русской литературе XX века. В 1920 г. ему удалось в одном “действии” дать метафору всей культуры нашего (то есть уже прошлого) столетия. И, одновременно, этот поджог – метафора собственно творческого процесса, личного опыта смерти. Уничтожая имена, автор-демиург очищает мир, грунтует холст, на который еще предстоит нанести новые знаки с тем, чтобы через сотни лет этот палимпсест был вновь пущен в оборот. Очень важны слова, следующие за описанием сцены: “Едкий дым стоял вокруг меня. Стало легко и свободно”.
Свободно! Вот чего добивается автор. Не бессмертия28, а – свободы! Свободы, которая есть – смерть29!
Закончить этот небольшой экскурс в практику умирания-в-тексте в его хлебниковском варианте хотелось бы поразительным провидением-предсказанием Будетлянина о собственной судьбе. Незадолго до смерти он составил небольшой список городов, стран, мест, где бывал, своего рода перечень странствий, озаглавленный “Дорога чада милого”; он хранится в РГАЛИ (527-1-75-л.35). Здесь столбиком написано: “Астрахань – Москва – Харьков – Ростов – Баку – Персия – Пятигорск – Поезд – Москва”. Хлебников уже понимал, что никуда уехать из Санталово ему не удастся, болезнь зашла слишком далеко. И венчает список, написанное крупнее остальных и как бы немного сбоку, слово … нет, не смерть, а – СВОБОДА, рядом с которым, уже рукой П. Митурича сделана приписка: “Санталово Новгор. губ. Крестец. р-н. † 28/VI 1922”.
Дата и место смерти обозначили дату обретения свободы.
Примечания
1 Например, недавно вышедший труд Т. С. Царьковой [23].
2 Показательно в этом отношении замечание Ф. Зонабенда о “языке смерти” [2 : 451].
3 Специальная терминология здесь и ниже, в большинстве случаев, наша.
4 Ср. высказывание Ф. Ницше: “Каждого писателя постоянно вновь изумляет, как его книга, раз отрешившись от него, начинает жить самостоятельной жизнью; он чувствует себя так, как если бы на его глазах часть насекомого оторвалась от целого и пошла своим путем…” [18 : 346].
5 “Язык возникает лишь вместе с пустотой…” [7 : 89].
6 Вообще, надо заметить, что подобные идеи не раз высказывались и другими видными интеллектуалами нашего столетия. Приведем, например, несколько высказываний Р. Барта: “Благодаря всем этим попыткам наш век (последние сто лет), быть может, будет назван веком размышлений о том, что такое литература <…> Поскольку же такие поиски ведутся не извне, а внутри самой литературы, точнее, на самой ее грани, в той зоне, где она словно стремится к нулю, разрушаясь как язык-объект и сохраняясь лишь в качестве метаязыка, где сами поиски метаязыка в последний момент становятся новым языком-объектом, то оказывается, что литература наша уже сто лет ведет опасную игру со смертью, как бы переживает свою смерть; она подобна расиновской героине (Эрифиле в “Ифигении”), которая умирает, познав себя, а живет поисками своей сущности” (“Литература и метаязык”, [3 : 132]); “Парадокс: сам писатель упорно умалчивает об этой бесцельности письма (сближающей его – через наслаждение – со смертью) <…>” (“Удовольствие от текста”, [3 : 490]). Примечательно, что разрыв между этими текстами почти 15 лет, когда в работах Р. Барта “случается” переход от структурализма к постструктурализму: то есть эта мысль, видимо, может быть определена как своего рода константа стратегии не отдельного течения, но вообще аналитического, исследовательского дискурса второй половины XX века.
7 Такого рода концепциям, вообще всем постклассическим стратегиям размышления и анализа, А. В. Демичев дал удачную характеристику: “Мысль стала саморефлектирующей настолько, что для того, чтобы увидеть себя, ей потребовалось себя убить” [9 : 184].
8 М. Бланшо делает в конце эссе значимую оговорку: “…может показаться, что фразы Кафки выражают свойственный ему мрачный взгляд на мир” [6 : 53], здесь же опровергая свое суждение, ссылаясь на подобные размышления А. Жида (плюсуя, конечно, имплицированно и собственную позицию как писателя). Мы можем добавить следующий ряд: Ж. Кокто (“Писать – это убивать смерть” [24 : 289]), С. Платт (“Смерть – / Искусство не хуже других. / В совершенстве я им овладела. / Умираю ловко до невероятности – / Ощущение, лишенное приятности. / Я – мастер своего дела” [24 : 395]), В. Набоков (“Если бы я был поэт, я непременно написал бы оду сладостной тяге – смежить глаза и целиком отдаться совершенной безопасности взыскующей смерти. Экстатически предвкушаешь огромность Божьих объятий, облекающих освобожденную душу, теплый душ физического распада, космическое неведомое, поглощающее ту неведомую минускулу, что была единственной реальной частью твоей временной личности” [16 : 187]); Божидар (поэт так писал о своей книге “Рассудочное единство”: “Двенадцать стихотворений – двенадцать ударов в лицо смерти…” [1 : 144]) – подобные примеры можно множить и множить. Вообще говоря, эта тема далеко выходит за рамки простого сюжета, оригинальной идеи или даже специфического мироощущения. Гениальному врачу, психологу и психиатру В. Бехтереву, по воспоминанию современника, принадлежит следующая фраза: “Еще неизвестно, что такое смерть: быть может, это – часть творческого акта…” [13 : 349]. Кроме того, см. замечательное исследование Г. Чхартишвили “Писатель и самоубийство” [24], из которого взяты два приведенных выше примера.
9 В этом смысле можно усомниться в тезисе С. Третьякова, выразившем “общефутуристическую” идею “победы над смертью” как раз в применении к Хлебникову таким образом: “Для футуриста не существует смерти, поскольку задача его – наиболее полно и концентрированно расплавлять себя в действенном сознании современников, а следовательно, и грядущих поколений” [21 : 529 – 530]. Такое понимание несколько отдает революционной вульгарностью ЛЕФА, от которой Будетлянин, прямо скажем, “далековат”.
10 Мы не можем удержаться от того, чтобы привести эту замечательную цитату (которой мы в равной степени обязаны и гению Кафки, и гению Бланшо) полностью: “Можно даже предположить, что столь странные отношения художника и произведения, отношения, которые заставляют произведение зависеть от того, кто возможен только в его лоне, вся эта аномалия проистекает из опыта, ниспровергающего временные формы, а на более глубоком уровне – из своей двусмысленности, двойственной точки зрения, что Кафка с избытком простоты и выразил во фразах, которые мы ему приписываем: “Писать, чтобы суметь умереть – умереть, чтобы суметь писать, слова, которые замыкают нас в круговерти своих требований, которые обязывают нас уйти от того, что мы хотим найти, искать лишь точку отправления и, тем самым, сделать из этой точки нечто, к чему приближаешься, лишь от него удаляясь, но что также дает место и надежде: надежде ухватить, заставить возникнуть предел там, где о себе заявляет нескончаемое” [6 : 53].
11 См. вывод А. Кожева при анализе философии Гегеля: “…Нет свободы без смерти, и только смертное существо может быть свободным. Можно сказать даже, что смерть – это последнее и аутентичное “проявление” свободы” [14 : 171].
12 Кроме “Свояси” и других незначительных (только по объему!) фрагментов дневниковых записей, набросков статей, отдельных размышлений, нам ничего и не удастся обнаружить. Известно следующее воспоминание И. Березарка о принципиальной позиции Хлебникова, высказанной им по поводу постановки спектакля “Ошибка Смерти”: “Я помню, как режиссер спектакля (А. Надеждов) требовал у Хлебникова каких-то разъяснений по ходу действия пьесы, а Хлебников отказывался объяснять, отказывался очень вежливо, со своей очаровательной улыбкой. Мне он потом говорил, что это слишком трудная задача для поэта – толкование своих произведений. Пусть этим занимаются комментаторы, режиссеры, критики, но только не сам поэт” [4 : 176]. Поэтому так редки его автокомментарии к текстам.
13 Ссылки на тексты Хлебникова даются по следующему принципу: в тех случаях, когда произведение входило в сборник “Творения” (М., 1986), под ред. В. П. Григорьева и А. Е. Парниса, цитаты оформляются следующим образом (1986 : 507), где 507 – номер страницы; при ссылке на пятитомник 1928 – 1933 гг. (“Собрание произведений”, под ред. Ю. Тынянова и Н. Степанова) римская цифра указывает номер тома, арабская – номер страницы (например, II : 73); том “Неизданных произведений” под ред. Н. Харджиева и Т. Грица (1940) по общепринятой традиции обозначается аббревиатурой НП; ссылки на прозаический сборник В. Хлебникова “Утес из будущего” (1988), под ред. Р. В. Дуганова, даются так: (1988 : 66); при обращении к новому шеститомному Собранию Сочинений, под общей ред. Р. В. Дуганова, номер тома, как и страница, указывается арабской цифрой (например, 2 : 45); аббревиатура (ДС) указывает на кн. Хлебников В. Доски Судьбы. - М•Рубеж столетий, при этом приводится название отдельной статьи, а перед номером страницы римской цифрой указывается номер Листа: например, ссылка (“Перелом во времени через 3n дней”, ДС : II, 30) означает указание на соответствующую статью Листа II “Судьбы Отдельных Народов”, располагающуюся в книге “Доски Судьбы” на стр. 30; документы, хранящиеся в РГАЛИ, обозначаются следующим образом: (РГАЛИ, 527-1-№ единицы хранения-№ листа); например, (РГАЛИ 527-1-82-л.16) означает – ф. 527, оп. 1, ед. хр. 82, л. 16.
14 Цит. по статье Вяч. Вс. Иванова [11 : 406 – 407].
15 Далее Хлебников излагает свои лингвосемантические наблюдения.
16 См. стихотворения “Всем” (2 : 393), “Торгаш, торгаш…” (2 : 395), финал “Зангези” (1986 : 504).
17 Как это было сделано комментаторами тома “Творений” (1986 : 702).
18 Единая книга – один из ключевых символов В. Хлебникова; см. стихотворение “Единая книга” (2 : 114).
19 Например, “утопить войну как сонную муху” (РГАЛИ 527-1-91-л.1).
20 См. характерные эпизоды в воспоминаниях Дм. Петровского [19 : 159 – 160; 167].
21 К “словотворческому потоку сознания” могут быть отнесены, например, фрагменты текстов “Ховун” (1988 : 50), “Белорукая, тихорукая, мглянорукая даль…” (1988 : 52), “Искушение грешника” (1988 : 53), “За мыслевом-кружевом…” (1 : 37), “Помирал морень, моримый морицей…” (1 : 91) и многие другие. Аналогии и параллели текстов Хлебникова с творчеством Дж. Джойса обнаруживали Р. Якобсон [8 : 728], С. Хоружий [22], Вяч. Вс. Иванов [11 : 409]; об этой проблеме пишет и В. П. Григорьев (см. по указателю в “Будетлянине” [8]).
22 См. у Ю. Кристевой и Р. Барта [3 : 473 – 474, 596], у И. Ильина [12 : 134 – 136].
23 “Уравнение жизни Гоголя” (ДС : VI, 99); именно здесь, в “мире за я” возможно общение со всеми жившими, живущими и еще не рожденными, с эпическим размахом воплощенное в шестом парусе “Детей Выдры”.
24 Правда, чтобы понять ее, ощутить холодок между лопатками, надо достаточно глубоко погрузиться в мир хлебниковской мифологии, то есть, фактически, проделать за автором тот же путь, путь в небытие. (См. варианты формулировок “основного закона времени”, точнее, следствий из него: “3 число упадка, убывающего ряда звеньев какой-нибудь цепи событий, и закрывая собой угол событий, идет к его тупику. <…> 3 это крыло смерти, потому что при нем, точно во время старости, события идут от жизни к смерти, по дороге к смерти…” (“Число 1053”, ДС : V, 81); “Родственны тройке понятия смерти…” (“Дэ и Тэ”, ДС : V, 79)).
25 См. у Р. Дуганова [10 : 77 – 78].
26 Первоначально вызывавшим радостное изумление: “Я не умер! – радостное открытие” (1 : 520).
27 Речь идет прежде всего о динамике авторского отношения: будучи создана как “чистая” художественная модель аннигиляции Танатоса (по свидетельству А. Лурье, Хлебников пьесу “очень любил и придавал большое значение” (1986 : 690), что понятно, исходя из соображений об успешной демонстрации одного из, может быть, самых наглядных способов решения проблемы смерти), в 1922 г. она вызывает чувство “мрачной, тяжелой вещи” и “подводных камней” (1986 : 690). Думается, такая метаморфоза напрямую связана с очевидной двусмысленностью финала: интерпретируемый, с одной стороны, как “разрушение театральной иллюзии” (принцип “все действие – только игра”) (см. у Б. Леннквист: [15 : 115]), видимо, первоначально разделяемый и самим Хлебниковым, в контексте поздней саморефлексии автора оборачивается “апологией смерти” (Бернштейн: [5 : 186]) – “притворившаяся” на время Смерть, в итоге снимает надоевшую маску, которой в общем-то и нет (как в известном рассказе Э. По), демонстрируя всю бесплодность усилий по ее порабощению (вот “подводные камни”!). Знак меняется: вторжение жизни в смерть оборачивается все тем же привычным, банальным и беспощадным вторжением смерти в жизнь.
28
То есть “смехотворного” бессмертия по терминологии Бланшо. Отзвуки неприятия
такого бессмертия мы можем видеть, например, в тексте “О женщины! О меньший
брат…”: “…Где мысль о бессмертии в нерадостный брег плот…” (1 : 163) или в пьесе
“Чертик”, где рассуждения Черта о мертвой Вселенной прямо связываются
с “голодом бессмертия”, но “бессмертия с проткнутой проволокой и стеклянными
глазами” (1986 : 400). Бессмертие – не в славе и признании (то, что психологи
называют “социальным бессмертием” (см. в книге А. Налчаджяна [17 : 15])), а
в природе творчества, в чернилах (“…вы опрокинули игравшую в чет и нечет
стражу и просили бессмертия у моих чернил и моего дара” (“Нужно ли начинать
рассказ с детства?..”, 1986 : 542)); правда, настоящее бессмертие возникает
и без них (“Лишь бессмертновею / Я” (“Крымское. Вольный размер”, 1 :
131)), ибо для подлинного творчества, в конце концов, необязательно физически
писать (книгу).
В этой связи приведем одну интригующую запись в черновиках “Досок Судьбы”: “Велемиру
Хлебникову безсмертье 1920 5 августа” (РГАЛИ 527-1-91-л.91). Кстати, одна из
статей, относящихся к “Доскам Судьбы” носит название “Бессмертному” (ДС : 157
– 158), а один из планировавшихся листов должен был называться “Бессмертие”
(РГАЛИ-527-1-л.91).
29 Ср. мысль Л. Толстого: “Смерть – это освобождение от односторонности личности” [20 : 396].
Литература
© Д. А. Пашкин