

Исследования о Велимире Хлебникове
Другие исследования об авангарде
И.Е.Лощилов
Автопортрет Велимира Хлебникова
Памяти Р. В. Дуганова
Что Хлебников
птицей нахохлился
Что Хлебников шелестящим орешником
что бобэоби
что малыш Хлебников
что Хлебников в солдатской фуражке
что Велимир в мордовской шапке
что Зангези
что шелест и шепот
что речь речики речики
что зензивер
зив чуив челять чул
чу-у
Сергей Бирюков
Механизм человеческого мышления, согласно Н. И. Жинкину, “реализуется в двух противостоящих динамических звеньях – предметно-изобразительном коде (внутренняя речь) и речедвигательном коде (экспрессивная речь). В первом звене мысль задается, во втором она передается и снова задается для первого звена” (Жинкин 1964: 36). Исследователи рукописей Достоевского утверждают: “Соотношение этих кодов меняется в зависимости от этапа творческого процесса и могут быть переведены из фактов мышления в конкретные элементы рукописи” (Баршт & Тороп 1983: 148-149). Если принять за аксиому мысль о том, что “текст Хлебникова – все, написанное Хлебниковым”, но при этом “все, написанное Хлебниковым, не является в поле наблюдения в один миг” (Башмакова 1987: 44), широко известный автопортрет 1909 года может стать предметом анализа как артефакт, предшествующий рождению поэтического слова и отражающий процесс перевода с одного способа кодирования на другой: “<...> отличие хлебниковской графики в том, что она как бы предшествует слову, она дословесна и напоминает какое-то пение, еще не оформившееся в артикулированные звуки речи. Это как бы музыка почерка” (Дуганов 1990: 170-171).

Авторпортрет 1909 г. занимает, безусловно, центральное место как в хлебниковской графике, так и в иконографии поэта (Дуганов 1987, Дуганов 1990: 153-176, Рисунки 1988: 28, Таким 1990: 1). “<...> этот пристальный и в то же время сквозящий и как бы невидящий или, вернее сказать, ясновидящий взгляд поэта лучше всего, кажется, передает его автопортрет 1909 года. Он занимает центральное место в хлебниковской графике. Лишь соотносительно с ним найдем мы ту точку зрения, с которой можно понять его рисунки. Даже если бы у нас был один только этот автопортрет, мы вправе были бы говорить о графике Хлебникова. Перед нами не просто самоизображение, но именно автопортрет поэта, в котором поразительно внешнее и еще более внутреннее сходство. Через 'образ поэта' нам открывается особый строй хлебниковской поэзии. В этом смысле его можно было бы назвать автопортретом поэтического слова” (Дуганов 1990: 154). С другой стороны, более или менее качественные репродукции этого портрета используются в оформлении обложки едва ли не каждого второго издания, так или иначе связанного с Хлебниковым1.
Изображение представляет собой целостный знак, означаемым которого, бесспорно, является человеческое лицо. Судя по характеру линий и росчерков, рисунок был сделан “с быстротою престидижитатора”, подобно портрету Ксаны Богуславской в описании Бенедикта Лившица (1989: 524). Эффект динамики, возможность “изменения, внутреннего превращения и 'оборачивания'” (Дуганов 1990: 170) возникают оттого, что в воспринимающем аппарате реципиента образ “расслаивается” на ряд разнородных изображений, связанных между собой сложным и единственно “верным” образом. Подобно древним маскам гробниц Юкатана в восприятии С. Эйзенштейна, – “это фильм-сновидение, подчиняющийся определенной монтажной логике” (Подорога 1995: 289).
Если мы в экспериментальных целях “освободим” черты лица от обрамляющих линий, то перед нами будет набросок лица, почти лишенного каких-либо индивидуальных черт (рис. 1). Во всяком случае, эффект узнаваемости неповторимого облика, хорошо знакомого по сохранившимся фотографиям, полностью исчезает.


Рис. 1
“Выхваченное” из всех рамок, это лицо напоминает об итогах, к которым приходит М. Шапир, анализируя фоническую структуру хрестоматийного хлебниковского стихотворения “Бобэоби пелись губы” (1908-1909): “<...> вне временно-пространственного 'протяжения', вечным, обобщенным, лишенным индивидуальности (и в этом смысле – безликим) оказалось изображенное на хлебниковской 'иконе' Лицо – Лицо Как Таковое” (Шапир 1993: 305). Это чрезвычайно близко к архаическому переживанию (точнее, не-переживанию) лица: “<...> искусные художницы племени кадувео не знают человеческого лица: для них лист бумаги, предложенный этнологом, уже дан как лицо; этого белого фона достаточно для выявления лица, но само оно еще не есть лицо, т. е. не опознается и не прочитывается как неотъемлемый знак социального существа. То, что мы называем лицом, то, что нами так легко физиогномически прочитывается, когда мы следим за вибрациями и изменениями лицевой части индивида (не говоря уже об универсальной значимости лица в европейской культуре), остается для архаического наблюдателя все тем же листом бумаги, на котором стерты лицевые знаки (а точнее, еще не нанесены)”2 (Подорога 1995: 283-284). В образ лица как бы “стягивается” здесь идеальное двухмерное пространство, или же, напротив, само пространство рождает лицо из своих глубин. Это-то и позволяет воспринимать изображение в контексте обобщающих пространственных категорий: “Рисунок этот читается одновременно и как портрет, и как пейзаж, можно сказать, – 'пейзаж лица' или 'лицо пейзажа'” (Рисунки 1988: 28). Hoc, рот, глаза и брови, “подвешенные” в пространстве, как бы пребывают в ожидании штриха, который будет способен сообщить портретное сходство.
Очевидная неполнота этого слоя вызывает в памяти фрагмент из повести “Николай” (1913), где отражена рефлексия по поводу соотношения общего и особенного в облике человека: “К людям вообще можно относиться как к разным освещениям одной и той же белой головы с белыми кудрями. Тогда бесконечное разнообразие представит вам созерцание лба и глаз в разных освещениях, борьба теней и света на одной и той же каменной голове, повторенной и старцами и детьми, дельцами и мечтателями бесконечное число раз. И он, конечно, был лишь одним из освещений этого белого камня с глазами и кудрями. Но может ли кто-нибудь не быть им?”3 (Хлебников 1986: 518)
Существенно, что индивидуальное в понимании Хлебникова связано с математически точно избранным углом освещения первичной формы.
Черты лица как таковые (отметим, что никак не обозначенным остался столь важный канал связи между внешним и внутренним, как органы слуха) вписаны в два обрамляющие контура, которые отчетливо противопоставлены один другому как сплошное/прерывистое, плавное/импульсивное и вертикальное/отклоняющееся от вертикали (рис. 2а). Линиями, экспрессия которых балансирует на грани лихорадочности, обозначено вместилище того, что еще в 1904 году поэт назвал “князь-тканью – благородным комом человеческой ткани, заключенным в известковую коробку черепа” (Хлебников 1986: 577), а много позже назовет “моим белым божественным мозгом”:
Мой белый божественный
мозг
Я отдал, Россия, тебе:
Будь мною. будь Хлебниковым.
(Осень 1921; Хлебников 1986: 161)
Контур, очерчивающий не то волосы, не то еле видимую ауру вокруг головы поэта, обозначен двумя неровными линиями, завершающимися дублирующими друг друга крючкообразными росчерками (рис. 2b). Если включить в этот контур линию, ведущую к устам поэта, то он будет противопоставлен контуру овала лица еще и по принципу тяготения к округлому/квадратному (рис. 2с).
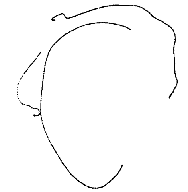
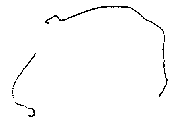

a) b) c)
Рис. 2
Вписывание черт лица как такового в этот верхний мозговой контур также не даст еще портретного сходства. Оно возникает лишь если мы достроим, наконец, аутеничное изображение, “вернув” ему линию (рис. 3), которую мы осмелились бы назвать личной (как в смысле соотнесенности с лицом, так и в связи с репрезентацией самой личности поэта).
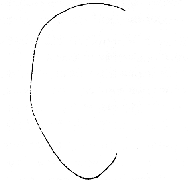
Рис.3
Именно ее характер и расположение скрепляют воедино множество образов, “'исступивших' из положенных им обликов” (Эйзенштейн III: 176). Одновременно эта линия удерживает лицо в состоянии сосредоточенного покоя и гармонии; образ как бы чреват исступлением, но само оно остается за пределами остановленного изображением момента. На нее свободно “нанизаны” элементы очертаний разных ракурсов и обликов, так, что созерцатель способен ощутить их колыхание как бы в полусне: “<...> в нем действительно есть что-то пейзажное, но это, конечно, пейзаж не земной, а небесный, или, лучше сказать, воздушный. Он как бы плывет, меняется и движется, как движутся в небе облачные громады, отчетливые в каждое мгновение и неуловимо меняющиеся” (Дуганов 1990: 168).
В соотнесении с чертами лица эта линия определяет не только его границу (овал лица), но и обозначает очертания черепа, между лицом и черепом как бы устанавливается возможность диалога. С другой стороны, она представляет собой слегка утрированную линию, хорошо знакомую нам по сохранившимся фотоизображениям поэта (включая детские) и рисункам современников4. Если говорить о соотношении внешнего и внутреннего в автопортрете Хлебникова, то необходимо, видимо, говорить о двух типах внутреннего. Личная линия обозначает границу плотного внутреннего. Характер линии обеспечивает этому внутреннему твердость кости и камня.
Оно связано с вечным, родовым, национальным, подобно тому, как в стихотворении 1921 г.:
Мой череп – путестан,
где сложены слова,
Глыбы ума, понятий клади.
И весь умерших дум обоз,
Как боги лба и звери сзади,
Полей неведомых извоз.
(Хлебников IV: 187)
Зазор между двумя овалами и примыкающие к нему элементы лица составляют пограничное внутреннее. Это – область экстатического, слои изображения здесь стремятся выйти за пределы друг друга: верхний овал сдвинут по отношению к нижнему; бровь, принадлежащая плоскости лица, выходит за пределы его овала, а самый краешек перехлестывает и границу верхнего. Пограничное внутреннее нарочито неопределенно, оно стремится втянуть в свои разрывы внешнее. Лицо в этом контексте противопоставлено плотному внутреннему как временное, бывающее, индивидуальное. Оно как бы может принадлежать кому угодно, но для поэта существенно, что оно принадлежит именно ему.
Автопортрет Хлебникова – одно из немногих известных нам самоизображений, начисто, как нам кажется, избавленных от психологических казусов, описанных М. Бахтиным: “Нужно некоторое новое усилие, чтобы представить себя самого отчетливо en face, совершенно оторваться от внутреннего самоощущения моего, и, когда это удастся, нас поражает в нашем внешнем образе какая-то своеобразная пустота, призрачность и несколько жуткая одинокость его. <...> Мне кажется, впрочем, что автопортрет всегда можно отличить от портрета по какому-то несколько призрачному характеру лица, оно как бы не обымает собою полного человека, всего до конца: на меня почти жуткое впечатление производит всегда смеющееся лицо Рембрандта на его автопортрете и странно отчуженное лицо Врубеля” (Бахтин 1986: 32, 36).
В автопортрете Хлебникова, несмотря на тонкость линии, нет никакой призрачности; напротив, ощущается полнота переживания жизни, еле сдерживаемый избыток творческой энергии Непосредственно в момент работы над самоизображением поэту не потребовалось, как нам кажется, бахтинских психологических экспериментов: “Легко убедиться путем самонаблюдения, что первоначальный результат попытки <представить себе свой внешний образ. – И. Л.> будет таков: мой зрительно выраженный образ начнет зыбко определяться рядом со мною, изнутри переживаемым, он едва-едва отделится от моего внутреннего самоощущения по направлению вперед себя и сдвинется немного в сторону, как барельеф, отделится от плоскости внутреннего самоощущения, не отрываясь от нее сполна; я как бы раздвоюсь немного, но не распадусь окончательно: пуповина самоощущения будет соединять мою внешнюю выраженность с моим внутренним переживанием себя” (Бахтин 1986: 32-34). Вот эта-то пуповина самоощущения и транслировалась, кажется, напрямую в артистическом движении руки поэта, проводящей личную линию. В противовес росчеркам, намечающим верхний овал и черты лица, эта линия спокойна, плавна и близка к математически выверенной кривой.
Еще один аспект выразительности автопортрета связан с тем, что личная линия воспроизводит ничто иное, как очертания органа слуха (рис 4а). Поэт как бы совмещает образ лица с образом гигантской ушной раковины, внимающей “тишине вселенского эпоса” (Башмакова 1987: 164-166). Линия дает окантовку органической формы, при этом черты лица замещают спираль ушной раковины (изоморфной эмбриональному телу), необозначенность которой прочитывается как значимое отсутствие 5.
В свете этого наблюдения переосмыслению подвергаются знаки, отсылающие к другим каналам связи между внутренним и внешним изображенного человека; они как бы “отрываются” от своих телесных субстратов. Совмещение личной линии с линией слуха позволяет, кажется, найти “материальные носители” эффектов, о которых говорит Р. В. Дуганов: “Линия здесь не столько рисует, сколько устанавливает какие-то соответствия между внешним и внутренним, намечая их взаимопереходы. Поэтому взгляд здесь обращен не вовне и не внутрь – это "взгляд в себе", внутренний взгляд. Поэтому и губы здесь не говорят, но и не молчат, а как бы наполнены словом. И рисунок предельно сближается с поэтическим словом как внутренним представлением, являясь его зримым образом” (Дуганов 1990:170).
Уста поэта, намеченные как бы нарочито небрежным росчерком, вплотную придвинуты к линии слуха. Парный орган зрения соотнесен с этой линией более сложным образом: правый глаз вместе с правой бровью выходят за пределы овала лица, а край левого чуть выступает за его необозначенную левую границу. Зрачки обоих глаз находятся внутри контура, но предельно приближены к его границам. Стоит отметить, что брови, не обозначающие определенного канала “перетекания” информации, следуют за взглядом, также утрачивая при этом чисто телесную привязку. Именно зрительный ярус лица является пространством пересечения двух контуров, он как бы распластан на нем6.
И, наконец, третий аспект смыслового наполнения личной линии хорошо виден в сравнении с линией, очерчивающей мозговой контур (рис. 4). Оба контура реализуют, в сущности, одну и ту же протоформу, восходящую к образу яйца7.
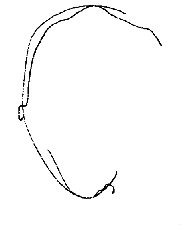
Рис. 4
Триединство образа головы (черепа) – уха – яйца создает эффект чреватости изображенного объекта: это голова, сплошь обратившаяся в слух, с тем, чтобы разродиться новым звуком, новым словом, окрашенным неповторимым тембром голоса. Соотносимость формы и размеров двух контуров сообщают образу инерцию переворачивания и динамику полета, он как бы застигнут в переворачивающем полете 8. Если в экспериментальных целях наложить два контура друг на друга (рис. 4), поражает их точная “пригнанность” друг к другу, разрывы и выпуклости линий верхнего контура со-противостоят плавности личной линии, в точности повторяя ее в основном. Верхний контур целиком может быть вписан в очертания личной линии, а крючкообразные завихрения прорывают ее как раз в тех точках, где, в случае, если бы мы имели дело с изображением, претендующим на буквальность и правдоподобие, могли бы быть обозначены “выходы” линий, намечающих ухо и шею. Если, однако, интерпретировать этот контур как овал возможного лица, то это лицо тяготело бы к положению анфас, в то время как личная линия намекает на поворот головы на три четверти. Вспучивание линии, обозначающее нечто вроде шишки на самой макушке этой воображаемой головы (как на рисунках с изображениями дзенских монахов и “просветленных”), в хлебниковском автопортрете сдвинуто к затылку; тем не менее, оно продолжает работать в рецептивном аппарате воспринимающего на создание и усиление образа чреватости: на фоне разрывов линии эта шишка как бы выводит на поверхность и делает зримым бурный, но невидимый процесс, протекающий внутри изображенного объекта.
Речь идет о запечатлении тончайшего телесного движения, в котором только и может быть артикулировано предслово. На этом уровне слово еще не принадлежит определенному языку и кодируется в образах предметно-изобразительной природы. Все три означаемых интересующего нас знака восходят к формам органической жизни 9 и поэтому легко “прочитываются” глазом независимо от языковой и культурной принадлежности созерцающего10. Относительная изоморфность означаемых позволяет слить их в пределах одного объекта; граница между образами черепа, яйца и уха мерцает, как бы равномерно распределяясь вдоль изгибов линии, очерчивающей объект11. Живая жизнь и дыхание линии обеспечиваются невозможностью “уловить” момент пересечения этой границы. Дифференциация восприятия возможна в экспериментальном сопоставлении “многозначной” линии с другими слоями и компонентами изображения. При таком сопоставлении личная линия оказывается способной проявлять различные свойства и быть носителем сразу нескольких семантических слоев.
Еще в 1904 г. в тексте “Пусть на могильной плите прочтут” Хлебников говорит об “уменьшении отношения” князь-ткани и смерд-ткани “относительно себя лично” (Хлебников 1986: 577). Хлебниковская программа преобразования собственного психо-физического состава вписывается, разумеется, в жизнестроительную программу серебряного века, восходящую, в первую очередь, к ницшевскому образу сверхчеловека. Хлебников видит орудием этого преобразования прежде всего занятия поэзией и математикой; работа над стихами и вычислениями продолжалась в голове будетлянина непрерывно. Ежи Гротовский12 в лекции “Перформер” говорил: “Мы почти полностью детерминированы обществом. Сущность кажется чем-то незначительным, но она ваша и только ваша. В 50-е годы в Судане в деревнях Ко были молодые воины, которые, войдя в определенный период расцвета, отличались тем, что их сущность пропитывала их тело, тело и сущность были неразделимы. <...> Перформер сам продолжает путь к обретению тела-сущности. К такому состоянию, печатью которого отмечен Гурджиев, запечатленный фотографом на скамейке в Париже. От облика юного воина Ко до облика Гурджиева – вот путь от тела-и-сущности до тела-сущности”13 (Гротовский 1991:25-26).
В одной из лекций о Марселе Прусте М. Мамардашвили говорил о теле Сен-Лу, “которое прозрачно в том смысле, что вполне держит задуманное и выполняемое движение, – движение выполняется целиком. Тело прозрачно. Слово прозрачно здесь следует понимать не в рассудочном смысле прозрачного для ума, для наблюдения. Прозрачно – значит не содержит в себе ничего инородного тому, что делается. Или можно сказать так – тело Сен-Лу – это совершенный артефакт. Артефакт, но совершенный, то есть открывающий такой горизонт и поле действия, в котором оно действительно выполняется. <...> Например, свойством таких совершенных артефактов обладает форма купольного свода. Однажды изобретенная, она воспроизводится бесконечно, поскольку содержит в себе бесконечное число возможностей, не закрываемых конечной формой самого артефакта. Ведь купол замкнут, и он – один. <...> И такой же совершенной формой является лук. <...> Ведь аристократическая форма тела Сен-Лу, этот совершенный артефакт, создавался в течение столетий многими поколениями” (Мамардашвили 1995: 271-272). В самом начале лекции философ называет и имя Хлебникова рядом с именами Пруста, Джойса и художников новой французской живописи в связи с глубинными процессами, происходившими в европейской культуре начала века (Мамардашвили 1995: 270).
Ключевое слово в рассуждениях С. Эйзенштейна
о фактах древней мексиканской культуры – головокружение. Оно относится
как к плану порождения образов, так и к плану рецепции: “<...> в попытке
войти в процесс порождения этих исступленных <...> образов орнаментального
разложения лиц и голов вы вступаете в систему закономерностей того процесса,
что породил эти образы разложения форм, нормальному состоянию сознания недоступных”
(Эйзенштейн III: 276). Созерцающий хлебниковский автопортрет также вступает
в систему закономерностей процесса, породившего это изощреннейшее – и одновременно
предельно простое, как бы само собою складывающееся14,
– изображение. В. Подорога выделяет в эйзенштейновском описании “по крайней
мере три стадии становления архаического лика божества: сначала загадочность
каменной маски и оцепенение под ее взглядом; затем стадия голово-кружения,
которая достигается или должна достигаться различными вспомогательными средствами
(от ритуальных до наркотических): каменная маска начинает как бы расщепляться,
расходиться в хороводе отдельных голов и ликов – здесь и выявляется различие
между образами до-лица (животными), образами лица (человеческими) и ликом
(божественным). И, наконец, последняя стадия, можно сказать, стадия полного
погружения во внутреннее движение отдельных лицевых образов дает экстатическое
переживание полноты бытия через чистый лик божества” (Подорога 1995: 291).
Можно предположить, что Хлебников – уроженец поликультурной и полиэтничной
Астрахани  (см.:
Викторин 1992) – имел весьма ранний опыт встречи с артефактами древних культур,
созерцая, например, каменных баб. Образ каменной бабы стал одной
из образных доминант в творчестве Хлебникова, и семантика его связана как
раз с проживанием “Вселенского полного мига” (Башмакова 1987: 171).
(см.:
Викторин 1992) – имел весьма ранний опыт встречи с артефактами древних культур,
созерцая, например, каменных баб. Образ каменной бабы стал одной
из образных доминант в творчестве Хлебникова, и семантика его связана как
раз с проживанием “Вселенского полного мига” (Башмакова 1987: 171).
Опыт, подобный тому, что получил Эйзенштейн во время путешествия в Мексику или Антонен Арто, созерцая ритуальные маски балийского театра, видимо, присутствовал в момент создания рисунка в “снятом” виде, полностью растворенный в телесном импульсе. Однако необходимо осознавать, что этот опыт включает в себя новую концепцию человека-будетлянина, родственную ницшевскому сверхчеловеку и блоковскому человеку-артисту, но не сводимую к этим образам. Триада Слово – Я – Бог явственно ощущается как своеобразная “подкладка” под хрестоматийной хлебниковской формулой Юноша Я-Мир (Хлебников 11/2: 35). При этом первая триада не отменяет вторую, их смысловые и ценностные отношения балансируют на тонкой грани, подобно тому, как неповторимо хлебниковское (велимирово) не содержится в рисунке ни в чертах лица, ни в личной линии, взятых по отдельности, но возникает в их точно выверенном взаиморасположении.
В связи с тенденцией к самообоживанию у Хлебникова М. Константинова выделяет два периода: “требовательное уравнивание себя с богом” с начала творчества до конца 1919 г., и, начиная с 1920 г. – “отказ быть названным богом или приравненным к нему” (Константинова 1995: 395-396). Самообоживание у Хлебникова носит интегральный характер: я-бог может включать в себя черты и христианского Бога, и индуистского (Иванов 1967), и мусульманского пророка, и “андрогинного бога языческих мистерий” (Константинова 1995: 396). Отождествление себя со словом связано прежде всего с христианским слоем, где изначально присутствует тождество Бога и Слова. В многослойной реальности хлебниковского автопортрета ощущается опыт вызывающего головокружение созерцания в собственном облике субстанции слова и божественyой сущности. Доминантой этого единства следует признать совмещение личного социального статуса со статусом мифологического поэта. “Поэт в мифологической традиции – персонифицированный образ обожествленной памяти коллектива, 'отец слов' и 'владыка времен'. В акте его поэтического творчества соединяются божественное и человеческое, и средоточием этих сфер являются язык, речь, слово” (Гарбуз & Зарецкий 1991: 73).
В стихотворении 1908 года “Вечер. Тени” напрямую артикулировано это тождество:
И когда на закате
кипела вселенская ярь,
Из лавчонки вылетел мальчонка,
Провожаемый возгласом “Жарь!”
И скорее справа, чем правый,
Я был более слово, чем слева.
(Хлебников 1986: 49)
Здесь важен не только и не столько прямой смысл высказывания, сколько интонация, воспроизводящая напряжение попытки локализовать свой образ в пространстве, определить, где же, собственно, я нахожусь, и что же, наконец, я есть такое15. Реплика не то хозяина лавчонки, не то приказчика в предельно уплотненном виде воспроизводит глас бога из стихотворения Пушкина “Пророк”: Глаголом жги сердца людей! Стремительно летящее тело мальчонки уподобляется глаголу, и это уподобление провоцирует лирического героя определить себя по отношению к слову. Признавая свою возможную неправоту, поэт, тем не менее, превращается в слово за счет мены центральной фонемы в слове: слЕва/слОво16. “Мельчайшее звуковое тельце проникнуто движением, оно – смысловой сдвиг” (Башмакова 1987: 182). Слово, в понимании Хлебникова, тяготеет к обратимости, и любое слово скрыто палиндромично: отметим, что обратное чтение первой строчки стихотворения дает сочетание, близкое к И нет рече <и> в, с семантикой, отрицающей слово. Отсылающее к самому себе слово слово занимает третью позицию в четырехчленной формуле {справа – правый – слово – слева}. Однако именно оно первично в этой цепочке и мотивирует ее развертывание: слово за счет мены фонемы преобразуется в слева, слева втягивает в стих собственный антоним справа, а оно, в свою очередь, – родственное по смыслу, этимологии, фонетике и оценочной характеристике правый.
справа ® правый
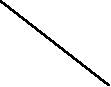
слово ¬ слева
Вписанная в финальные строки конфигурация зеркально воспроизводит форму буквы Z, отсылая к прочитанному наоборот первому стиху. С другой стороны, слово справа локализовано в левой стороне колонки стиха, а слева – в правой, и этот объемный хиазм ставит читателя в положение зеркального отражения по отношению к тексту17. Развертывание иррационально ветвящейся внутренней формы слова обретает характер связного высказывания, смысл которого лишь частично выводим из смысла составляющих слов. Скрытая в реальном слове языка идеальная симметрия словесной субстанции актуализует оппозицию правое/левое18. Подобно акустическому телу слова, облик поэта на автопортрете также “раздваивается” на качественно отличные половины (рис. 5а, b).


a) b)
Рис. 5
Согласно Эйзенштейну, “левая сторона выражает 'общее', правая – личное и индивидуальное' в чертах данного лица” (Подорога 1995: 292-293). Не осмеливаясь предлагать отчетливой интерпретации, отметим, что в левой половине более выражено детское и даже животное в образе поэта: эта позиция тяготеет к профильной и создает инерцию “вытягивания” лица вниз и вправо, что приближает его к морде животного (см.: Ямпольский 1989). В правой же стороне нам бросилось в глаза портретное сходство с Пушкиным, осознанное или неосознанное самоотождествление с которым в контексте “пушкинского мифа” (Виролайнен 1995: 349) также может быть рассмотрено как одна из стадий самообоживания19.
Речь идет, разумеется, не о том, что хотел сказать поэт этим рисунком, который мы можем интерпретировать и как визуальное стихотворение, и как своеобразную подпись, стирающую имя подписывающегося20, и как фильм-сновидение21 (хотя, в конечном счете, и об этом тоже). Вряд ли Хлебников задумывался, делая на листе бумаги серию росчерков, о том, например, почему он оставил себя на автопортрете без ушей. Речь идет о том, что можем увидеть и понять мы, анализируя след, оставленный рукой поэта, погруженного в особого рода психологическую и телесную практику. Рефлексия по поводу самоизображения поэта способна помочь достроить “не зафиксированный в стихах параметр физического, телесного проявления поэзии” (Семенцов 1988: 31). Здесь и в самом деле “через 'образ поэта' нам открывается и особый строй хлебниковской поэзии” (Дуганов 1990: 154). Приемы “расслаивания” слова (включая словотворчество) в поэзии Хлебникова представляют собой “особую идеологическую риторику” (Баран 1993: 186), втягивающую читателя в состояние переживания полноты реальности. Поэзия Хлебникова, подобно шаманскому обряду, “объединяет в себе фантастическую картину мира и способы действия в этом мире, переведенные на язык, хотя бы частично понятный племени” (Касавин 1994: 14).
В своей наиболее простой форме двухзвенный механизм художественно-изобразительного мышления реализуется “в надписях под картинами и скульптурами” (Жинкин 1964: 38). Пожалуй, с наибольшей отчетливостью острота и уникальность хлебниковской мысли видна в соотнесении изображения и надписи. “Тогда, в 1909 году, испытав уже первые литературные успехи и первые неудачи, Хлебников полностью осознал свое поэтическое призвание и, рисуя этот удивительный автопортрет, сопровождал его еще более удивительной надписью: 'Заседание общества изучения моей жизни'” (Дуганов 1990: 170).
Если мы вправе выдвинуть гипотезу о последовательности становления трех слоев, составивших изображение, то она будет выглядеть приблизительно таким образом. Сначала поэт набрасывает на листе бумаги черты лица как такового. Затем двумя быстрыми росчерками вписывает их в верхний контур. Вслед за этим бросает на себя и свое место в мире ретроспективный групповой взгляд из мифологического будущего, заставляя тем самым вибрировать пуповину самоощущения, подобно натянутой струне, так что резонанс отзывается в области родовой и генетической памяти. И лишь затем, тщательно “прицелившись”, варьирует уже намеченный контур, уверенно проводя личную линию, в кривизне и единственно верном расположении которой личность поэта оказывается заумным образом “уловлена” в самом своем существе.
В свете сказанного поставим вопрос: автопортрет ли это в строгом смысле слова? Может быть, вернее было бы сказать, что рисунок 1909 г. – это визуальная репрезентация того, как мог бы выглядеть “некто, очень похожий на Хлебникова” (Вроон 1996: 145), соткавшийся как бы из воздуха в мимолетном виденье грядущих верников в него (Парнис 1996: 12, Хлебников 1986: 597), собравшихся вместе с целью изучения обстоятельств жизни и обстоятельств мысли будетлянина. Мало того: в соответствии с далекой от какой бы то ни было линейности логикой поэта, этот некто и есть самый факт собрания верников, в момент видения пожертвовавших своей видимостью и индивидуальными качествами ради воссоздания образа будетлянина, проросшего в будущее сквозь его слово22. Не так ли и сам Велимир смело бросил во славу Слова “все свои права” в печку будущему (Хлебников 1986: 142)?23
В заключение автор хочет привести фрагмент из письма, полученного от Мая Петровича Митурича-Хлебникова; письма, написанного по поводу публикации одного из вариантов настоящего текста в сборнике материалов конференции “Граница в культуре” (Тарту) [Лощилов 1998]: “<…> В этом замечательном рисунке, как и вообще в звучной черно-белой графике, можно усматривать и цветовые характеристики, переданные совокупностью контрастов.
Так, глаза я не могу видеть ни черными, ни карими, а именно светло-голубыми. Отсутствие контраста между шевелюрой и цветом лица говорит о характеристике блондина.
А отсутствие уха – можно приписать и дилетантизму рисовавшего, когда облик воспринимается, исчерпывается чертами лица.
В работе со студентами непросто бывало втолковать, что у портретируемого есть не только лицо (нос, глаза), но и затылок.
Жаль, что мы не касались этой темы с Дугановым. Очень, очень не хватает Рудольфа. <…>” (из письма автору статьи 13 мая 1999 года.)
Примечания
1 Искусствоведческий анализ хлебниковского автопортрета потребовал бы, кроме специальных знаний, знакомства с оригиналом, который нам, к сожалению, недоступен. На обложке III выпуска “Неизданного Хлебникова”, например, воспроизведен достаточно приблизительный “римейк” автопортрета работы И. Клюна (Неизданный 1928, рис. 6).

Рис.6
Читатель волен судить о том. какие аспекты семантики бесследно улетучиваются вместе с притягательной силой аутеничного изображения. и какие всё же сохраняются при столь условном “копировании”. В настоящей статье речь идет об автопортрете Хлебникова скорее как о тексте визуальной природы (визуальном стихотворении), знаковый характер которого способна передать в общих чертах любая репродукция, нежели как о рисунке, занимающем свое место в рамках традиции футуристической графики.
2
Ср. начало статьи М. Волошина “Лицо, маска и нагота” (1910-е гг.):
“В описании кругосветного путешествия Дарвина на корабле “Бигль” есть такой
курьезный рассказ. Это было на Огненной Земле (В рукописи: на Новой
Земле.). Был мороз, и шел легкий снежок. Дарвин дрожал от холода в шубе, а
рядом с ним шел голый дикарь. Снег падал на его плечи и таял на теле, но он
не выказывал никаких признаков холода.
– Как это Вам не холодно? – спросил Дарвин.
– А твоему лицу холодно? – сказал дикарь.
– Нет.
– Ну, так у меня везде лицо” (Волошин 1988: 399). В примечаниях указано, что
“этот эпизод – в том виде. как его передает Волошин, – в книге Дарвина о путешествии
на корабле “Бигль” отсутствует” (Волошин 1988: 719). Ответ дикаря восходит
к словам скифского мудреца Анахарсиса, которого греки спрашивали: “Правду
ли говорят, что вы, скифы, умеете ходить по морозу голыми?” Анахарсис отвечал:
“Ты ведь ходишь по морозу с открытым лицом? Ну вот, а у меня все тело – как
лицо” (Гаспаров 1995: 75). Имя Дарвина указывает в этом контексте на комплекс
идей естественного отбора и наследственного детерминизма. Противостоящий Дарвину
естественный человек (дикарь) в определенном смысле синонимичен синичке
из стихотворения Н. М. Олейникова:
Чарльз
Дарвин, известный ученый,
Однажды синичку поймал.
Ее красотой увлеченный,
Он зорко за ней наблюдал. <...>
Был Дарвин великий ученый,
Но он красоты не имел (Олейников 1982: 82).
Ср. также в стихотворении принадлежащего к “позднему авангарду в его ленинградской редакции” (Смирнов 1994: 300) А. И. Введенского “Куприянов и Наташа”:
Смотри-ка,
вот я обнажилась до конца
и вот что получилось,
сплошное продолжение лица (Курсив мой. –И. Л.),
я вся как будто в бане
(Введенский-I: 103).
Как отмечает Л. Кирсанова, “та поразительная острота, одухотворенность человеческого лица, которую мы наблюдаем у Толстого, Набокова, Эйнштейна, была достигнута дорогой ценой – утратой человечеством, точнее, европейской его частью, пластики тела” (Кирсанова 1991: 51). Ср. также соотнесенность “Черты лица” – “Части тела” в романе Л. Добычина “Город Эн”.
3 Хлебниковское “К людям вообще можно относиться...” следует воспринимать, видимо, прежде всего в контексте прозрений поэта 1909 г. Из письма Вячеславу Иванову: “Один и тот же камень разбил на две струи человечество, дав буддизм и Ислам, и непрерывный стержень животного бытия, родив тигра и ладью пустыни. Я в спокойном лице верблюда читал развернутую буддийскую книгу. На лице тигра какие-то резы гласили закон Магомета. Отсюда недалеко до утверждения: виды потому виды, что их звери умели по-разному видеть божество (лик) (Курсив мой. – И. Л.)” (Хлебников IV: 356).
4 Ср. наблюдения Ролана Барта: “А вот вещь еще более коварная и проникновенная, чем сходство: в иных случаях Фотографии удается выявить то, что не воспринимается в реальном (или отраженном в зеркале) лице: некую родовую черту, частицу самого себя или родственника по восходящей линии. На одном фото у меня ‘физиономия’ как у сестры моего отца” (Барт 1997: 154-155).
5 Нам могут возразить, что образа уха нет в автопортрете, есть лишь смутно угадываемый намек на его очертания. Действительно, воспринимающий аппарат “считывает” эту информацию во вторую или даже в третью очередь. Тут нам видится параллель к словотворческой стратегии Хлебникова. В широко известном неологизме будетлянин, который не имел “аналогов в языке ни по странной основе – форме 3 л. будет, ни по чередованию т - тл” (Григорьев 1986: 210), в первую очередь мы слышим слово будет. Гораздо меньше читателей, которые расслышат в недрах хлебниковского неологизма слово тля, а еще меньше таких, кто согласится с тем, что для поэта было существенно “привить” к слову с семантикой высокого звукокомплекс, намекающий на семантику ничтожного и тленного (тлянин). Нам представляется, что Хлебников, с его безукоризненным поэтическим слухом, сознательно затруднил восприятие оксюморона, оба компонента которого присутствуют внутри одного слова. Зангези из одноименной сверхповести называет себя божестварью (Хлебников 1986: 487), и здесь “разница потенциалов” составляющих корней гораздо отчетливей. Божество и тварь (Хлебников учитывал как функционирование слова в церковном языке, так и в инвективной практике) здесь почти равноправны, в то время как в слове будетлянин будущее доминирует над тлей. И. П. Смирнов, ссылаясь на интерпретацию Б. Гройса. пишет: “Называя свою конструкцию Летатлин, ее автор не только объединил свое имя (Татлин) с глаголом летать, но и свел воедино два слова, отсылающие к мертвому (Лета, тлен)” (Смирнов 1994: 213). Эти обертоны смысла хорошо слышал Заболоцкий. В поэме “Торжество земледелия” будетлянин “жалкий, весь в коростах, / Полусъеденный, забытый” (Заболоцкий 1983: 123), а в “Безумном волке” Великий Летатель Книзу Головой в одно и то же время ничтожный зверь, червяк в звериной шкуре – и царь земли, гладиатор духа (Заболоцкий 1983: 144). Наряду с державинским подтекстом существен и хлебниковский; “Безумный волк” в этом смысле представляется драматургическим развертыванием коллизии, “спящей” в неологизме будетлянин.
6 В энциклопедической статье, посвященной мифологическому образу поэта, В. Н. Топоров интерпретирует мотив слепоты поэта как указание на сверхзрение (Мифы 1982: 327).
7 В хлебниковской геометрической терминологии понятию эллипс соответствует словосочетание разрез яйца (Хлебников 1986: 578, 704). С точки зрения геометризации форм, автопортрет поэта может быть сведен к пересечению треугольника, обращенного вершиной вниз (в который вписаны черты лица), и двух разрезов яйца.
8 О происхождении образов, связанных с вертикальной пространственной инверсией, см. наши работы: Лощилов 1995, Лощилов & Богданец 1995.
9 С известной осторожностью отметим, что объединение верхнего контура с личной линией (рис. 2а) может прочитываться как контур еще одного образа органического происхождения – образа гриба. Тогда лицу соответствовала бы его ножка, а мозгу – шляпка. Ср. уподобление мозга поэта грибу в позднем стихотворении “Слава пьянице, слава мозгу” (Хлебников III: 68).
10 Это позволяет связать автопортрет 1909 г. с актуальной для Хлебникова проблематикой иероглифического знака: “И народы китайцев и японцев говорят на сотне разных языков, но пишут и читают на одном письменном языке” (Хлебников 1986: 621).
11 Еще одна параллель к поэтической работе. Границы между словами стираются в хлебниковских неологизмах, и это возвращает слову статус предела, целиком принадлежащего внутренней речи. Еще в 1914 г. Маяковский предпринял попытку развернуть внутреннюю форму хлебниковского неологизма в некое подобие сюжета, говоря о слове железовут: “В нем спаяны и лязг 'железа', и слышишь, как кого-то 'зовут', и видишь, как этот позванный 'лез' куда-то” (Маяковский 1968: 376). Поэт и сам, впрочем, мыслил эффект неологизмов в категориях очертания, образа и лика: “Художественный прием давать понятию, заключенному в одном корне, очертания слова другого корня. Что первому дает образ второго, лик второго” (Цит. по: Харджиев & Тренин 1970: 100) Такое слово читатель может пережить как сгусток нескольких образов предметно-изобразительного ряда, каждый из которых мог бы стать реальным словом, принадлежащим языку, если бы поэт не воплотил в неологизме срез процесса кодирования из первого звена во второе.
12 Е. Фарино пишет о Втором Авангарде как раз в связи с театральной практикой Гротовского: “Искусство стремится преодолеть экзистенциальную замкнутость и ограниченность человека – как телесную, так и духовную (см. опыты театра Второго Авангарда, в частности, Гротовского)” (Faryno 1991: 602).
13 Ср., например, восприятие Мариной Цветаевой последних фотографий Андрея Белого (Цветаева 1989: 510-511) и, с другой стороны. поздние фотоработы Лени Рифеншталь, сделанные в Судане (Reifenstahl 1995). Следует помнить, однако, что во всех этих случаях речь идет о запечатлении особого телесного статуса (достигнутого в результате антропософской практики, как в случае Белого, или в результате полной включенности в ритуально-мифологический континуум у нубийцев) при помощи фотографии. В случае Хлебникова мы имеем дело с графическим следом хлебниковской телесно-психологической практики. О проблеме границы между искусством портрета и искусством фотографии см.: Лотман 1997: 8.
14 Ср. эпизод из воспоминаний Петра Митурича, относящийся к последним дням жизни поэта: “Вдруг Велимир указывает на стену. "Смотрите, Сергей Городецкий – крыса". Высоко на стене, где подновлялась штукатурка, образовалось пятно. Силуэт пятна давал фигуру, в которой Велимир усмотрел яркую карикатуру на Городецкого. Голова крысы с длинным носом и маленькими глазками и шевелюра волос. Образчик нерукотворного велимировского творчества. Рисунок был так удачен, что его хотелось сохранить, но я не располагал фотоаппаратом” (Митурич 1997: 98). Граница между эмпирическим фактом и фактом искусства здесь столь зыбкая, что нелегко решить вопрос об авторстве этого рисунка, если он вообще может быть назван рисунком.
15 В конце творческого пути поэт приходит к острому переживанию собственной невидимости:
И с ужасом
Я понял, что я никем невидим,
Что нужно сеять очи,
Что должен сеятель очей идти! (Хлебников 1986: 167)
Ср. сопоставимое, но, казалось бы, противонаправленное поэтическое переживание у А. И. Введенского:
Мне невероятно обидно, что меня по-настоящему видно (Введенский I: 129).
Осознание себя невидимым повергает будетлянина в ужас, граничащий с восторгом. Обэриут переживает собственную видимость как обиду, и это, бесспорно, глубокая экзистенциальная обида. Впрочем, если признать, что в качестве зрителя представления одинокого лицедея Хлебников подразумевает “преодолевшего земное тяготение 'умозрителя'. человека космической эры, расщепляющего сон Вселенной” (Башмакова 1987: 163), а Введенский – современников, которым он виден во множестве случайных проявлений. – позиции двух поэтов сходятся в собственной глубине. Укажем, что стихотворение Хлебникова в английском переводе называется “Lone Performer” (см., например: Cooke 1987: 59-61). Ср. название цитированной в тексте статьи лекции Ежи Гротовского, где искусство перформера связывается с “артикуляцией жизни, льющейся сплошным потоком” (Гротовский 1991: 25). Словосочетание одинокий лицедей возникло в творческой лаборатории Хлебникова, как нам кажется, в качестве русской кальки несуществующего слова, которое могло бы обозначать протагониста монодрамы. Такое прочтение требует переосмысления хлебниковского шедевра в контексте философских и эстетических построений Николая Евреинова, неучтенном в блестящем и близком к исчерпанию анализе Е. Фарино (Фарино 1987). Невидимость протагониста монодрамы объясняется тем, что его кругозор полностью совмещен с полем зрения зрителя (зрителей). Сеятель очей невидим, подобно тому, как мы не можем увидеть без помощи зеркала собственного лица, и подобно тому, как остается невидимым главный герой кинематографической монодрамы А. Тарковского “Зеркало” по имени Алексей. Предоставляем читателю свободу медитации по поводу проблемы границ слова и границ личности в связи с обозначенным кругом культурных реалий.
16 Ср. у Хармса:
Сажусь направо от себя, хозяину смеюсь читаю глядя на него коварные стихи (Хармс I: 55-56).
На эту параллель нас натолкнуло чтение статьи Б. Ф. Шифрина “Маска и естество: морфологическая тема Даниила Хармса” (1999).
17 “Фото является буквальной эманацией референта. От реального, “бывшего там” тела исходят излучения, дотрагивающиеся до меня, находящегося в другой точке; длительность трансмиссии особого значения не имеет, фото исчезнувшего существа прикоснется ко мне так же, как находящиеся в пути лучи какой-нибудь звезды. С моим взглядом тело сфотографированной вещи связывает подобие пуповины. Свет, хоть и неосязаемый, представляется в данном случае телесным проводником, кожей, которую я разделяю с тем или с той, что сфотографирован[а]. Слово “фотография” по латыни звучало бы так: “imago lucis opera expressa”, т.е. “образ, выявленный, выделенный, смонтированный, выжатый, как лимонный сок, под воздействием света”. И если Фотография зародилась в мире, сохранившем еще некоторую чувствительность к мифу, богатство этого символа не замедлило бы вызвать ликование: любимое тело обессмерчено при посредстве ценного металла, серебра (с ним связаны памятники и роскошь); к этому добавилась бы мысль о том, что данный металл, подобно всем металлам в Алхимии, жив” (Барт 1997: 121-122). Не приходится и говорить, что Хлебников сохранил эту “чувствительность к мифу” в переживании любых семиотических феноменов (“Еще раз, еще раз/ Я для вас – звезда”), включая, разумеется, фотографию: “В одном старом альбоме, которому много лет, среди выцветших сгорбленных старцев с звездой на груди, среди жеманных пожилых женщин, с золотой цепью на руке, всегда читающих раскрытую книгу, вы могли бы встретить и скромное желтое изображение человека с чертами лица мало замечательными, прямой бородой и двустволкой на коленях; простой пробор разделял волосы. Если вы спросите, кто эта поблекшая выцветшая светопись, вам кратко ответят, что это Николай. Но от подробных объяснений, наверное, уклонятся. Легкое облачко на лице говорившего вам укажет, то к нему относились не как к совершенно постороннему человеку” (Хлебников 1986: 518).
18 Об актуальности оппозиции левый/правый в современном велимироведении см.: Григорьев 1996: 84. Согласно Вяч. Вс. Иванову, “основную доминанту личности и творчества Хлебникова можно было бы охарактеризовать как левополушарную: для него на протяжении всей жизни главными оставались словесные, буквенные (или фонемные) и числовые символы и с ними (по Пирсу и Якобсону) связанная установка на будущее. Эта же левополушарная доминанта определяет и общий мажорный тон хлебниковского творчества (какие бы трагические темы, вызванные житейскими или историческими обстоятельствами, он ни разрабатывал)” (Ivanov 1990: 13-14).
19 О различных аспектах проблемы Пушкин и Хлебников см.: Слинина 1970, Якобсон 1976, Kšicová 1982, Григорьев 1983: 155-172, Фарино 1987, Гарбуз & Зарецкий 1992, Баран 1993: 152-178, Turbin 1994. Автор имел возможность в ноябре 1995 г. слушать доклад Р. В. Дуганова на конференции по визуальной поэзии в музее Вадима Сидура. Докладчик демонстрировал лист из рукописей Хлебникова времен пребывания в Баку. где слова и фразы отчетливо складывались в рисунок, воспроизводящий образ одного из профильных автопортретов Пушкина. О докладе Дуганова см. также: Бирюков 1996: 22.
20 Ср.:
Мне,
бабочке, залетевшей
В комнату человеческой жизни,
Оставить почерк моей пыли
По суровым окнам, подписью утика,
На строгих стеклах рока.
Так скучны и серы
Обои из человеческой жизни!
Окон прозрачное “нет”!
Я уж стер свое синее зарево, точек узоры <Курсив мой. – И. Л.>,
Мою голубую бурю крыла – первую свежесть. <...> (Хлебников 1986:477).
21 О сценарных замыслах Хлебникова см.: Цивьян 1991: 293.
22 Исследователь пишет: “Кажется, что общего между виселицей и журавлем? А это одно и то же, только в определенном контексте” (Виницкий 1991: 59). Так и в нашем случае, заседание по изучению жизни будетпянина и сам будетлянин в контексте мифопоэтической картины мира есть одно и то же.
23 Может быть, Хлебников, с его многократно описанной мемуаристами небрежностью в обращении с рукописями и кажущимся равнодушием к читателям и слушателям поэзии, как никто другой ощущал то, о чем говорит – совсем по другому поводу - Мария Маликова: “[…] как ни настаивал Набоков, что пишет только для одного читателя – которого видит в зеркале, когда бреется, - [после смерти] он (как сказал Оден в день смерти Йейтса) “стал своими поклонниками” ('he became his admirers')”. (Маликова 1999, 9).
Литература
Баран 1993: Баран X. Поэтика русской литературы начала XX века. М.,1993.
Барт 1997: Барт, Р. Camera lucida. М., 1997.
Баршт & Тороп 1983: Баршт К., Тороп П. Рукописи Достоевского: рисунок и каллиграфия // Текст и культура: Тр. по знаковым системам 16 / Учен. зап. Тарт. ун-та. Тарту, 1983. Вып. 635. С. 135-151.
Бахтин 1986: Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.
Башмакова 1987: Башмакова Н. Слово и образ: О творческом мышлении Велимира Хлебникова. Хельсинки, 1987.
Бирюков 1996: Бирюков С. Авангард. Сумма технологий // Вопросы литературы. 1996. № 5. С. 21-35.
Введенский I-II: Введенский А. И. Полн. собр. соч.: В 2 т. Ardis: Ann Arbor, 1980.
Викторин 1992: Викторин В. М. Мотивы шаманства в поэзии Хлебникова // Поэтический мир Велимира Хлебникова, Астрахань, 1992. Вып. 2. С. 78-84.
Виницкий 1991: Виницкий И. Ю. Малые верлибры Хлебникова // Хлебниковские чтения. СПб., 1991. С. 50-61.
Виролайнен 1995: Виролайнен М. Н. Культурный герой Нового Времени // Легенды и мифы о Пушкине. СПб.. 1995. С. 330-349.
Вроон 1996: Вроон Р. Генезис замысла “сверхповести” Зангези (К вопросу об эволюции лирического “я” у Хлебникова) // Вестник Общества Велимира Хлебникова. М., 1996. С. 140-159.
Гарбуз & Зарецкий 1991: Гарбуз А. В., Зарецкий В. А. Несколько ключевых образов Хлебникова // Фольклор народов РСФСР. Уфа, 1991.С. 73-90.
Гарбуз & Зарецкий 1992: ГарбузА. В., Зарецкий В. А. О мотивации некоторых текстов Хлебникова // Поэтический мир Велимира Хлебникова. Астрахань, 1992. Вып. 2. С. 68-77.
Гаспаров 1995: Гаспаров М. Л. Занимательная Греция. Рассказы о древнегреческой культуре. М., 1995.
Григорьев 1983: Григорьев В. П. Грамматика идиостиля: В. Хлебников. М.,1983.
Григорьев 1996: Григорьев В. П. О квазигильбертовских проблемах велимироведения // Вестник Общества Велимира Хлебникова. М., 1996. С. 80-88.
Дуганов 1987: Дуганов Р.В. Рисунки Хлебникова // Панорама искусств. М., 1987. Вып. 10. С. 366-379.
Дуганов 1990: Дуганов Р. В. Велимир Хлебников: Природа творчества. М.,1990.
Жинкин 1964: Жинкин Н.И. О кодовых переходах во внутренней речи // Вопросы языкознания. 1964. № 6. С. 26-38.
Заболоцкий 1983: Заболоцкий Н. А. Собр. соч.: В 3 т. М., 1983. Т. 1.
Иванов 1967: Иванов Вяч. Вс. Структура стихотворения Хлебникова “Меня проносят на слоновых...” // Труды по знаковым системам / Учен. зап. Тарт. ун-та. Вып. 198. С. 156-171.
Касавин 1994: Касавин И. Т. Размышления о магии, ее природе и судьбе // Магический кристалл: Магия глазами ученых и чародеев. М., 1994. С. 628.
Кирсанова 1991: Кирсанова Л. Нагота и одежда: К проблеме телесности в европейской культуре // Ступени. 1991. № 1. С. 47-63.
Константинова 1995: Константинова М. Поэтическая прелюдия к •Доскам судьбы' // Russian Literature. (1995). Vol. XXXVIII. P. 385-408.
Лившиц 1989: Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения, переводы, воспоминания. Л., 1989.
Лотман 1997: Лотман Ю. Портрет // Вышгород. 1997. № 1/2. С. 8-31.
Лощилов & Богданец 1995: Лощилов И., Богданец И. К интерпретации стихотворения Велимира Хлебникова “Из мешка” // Russian Literature. (1995). Vol. XXXVIII. P. 435-446.
Лощилов 1995: Лощилов И. Е. Об одном из источников мотива “перевернутой реальности” в футуристической традиции // Роль традиции в литературной жизни эпохи: Сюжеты и мотивы. Новосибирск, 1995. С. 128-135.
Лощилов 1998: Лощилов, И. Е. Автопортрет Велимира Хлебникова 1909 года: к вопросу о границах личности поэта.// Studia Russica Helsingensia et Tartuensia VI. Проблема границы в культуре. Тарту, 1998, 155-183.
Маликова 1999: Маликова, М. Брюки Набокова // Новая Русская Книга, 1999, №1, 9-12.
Мамардашвили 1995: Мамардашвили М. К. Лекции о Прусте. М., 1995.
Митурич 1997: Митурич П. Воспоминания о Хлебникове Велимире и Хлебниковой Вере // Наше наследие. 1997. № 39-40. С. 88-116.
Мифы 1982: Мифы народов мира: В 2 т. М.,1982. Т. 2.
Неизданный 1928: Неизданный Хлебников. Вып. III. (На правах рукописи). Копия с рукописи в 100 №№ экз. Редакция А. Крученых. Обложка и рисунки И. Клюна. Переписывали для стеклографа И. Клюн, Н. Асеев, А. Крученых, П. Незнамов, А. Олсуфьева. Изд. 'Труппы друзей Хлебникова” М., 1928.
Олейников 1982: Олейников Н. М. Иронические стихи // Серебряный век. Нью-Йорк, 1982.
Парнис 1996: Парнис А. Е. “Ищу я верников в себя”. Новое о Хлебникове // Литературное обозрение. 1996. № 5/6. С. 12-18.
Подорога 1995: Подорога В. Феноменология тела. М.. 1995.
Рисунки 1988: Рисунки русских писателей XVII – начала XX века: Альбом / Авт.-сост. Р. В. Дуганов. М., 1988.
Семенцов 1988: Семенцов В. С. Проблема трансляции традиционной культуры на примере судьбы Бхагавадгиты // Восток – Запад: Исследования, переводы, публикации. М., 1988. С. 5-31.
Слинина 1970: Слинина Э. Хлебников о Пушкине // Пушкин и его современники. Учен. зап. Ленингр. пед. ин-та. Псков. 1970. Вып. 434. С. 111-124.
Смирнов 1994: Смирнов И. П. Психодиахронологика: Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней. М., 1994.
Таким 1990: “Таким я уйду в века”: Образ Хлебникова в живописи и графике / Сост. С. В. Старкина. Л., 1990.
Шапир 1993: Шапир М. О “звукосимволизме” у раннего Хлебникова (“Бобэоби пелись губы...”: фоническая структура) // Культура русского модернизма: UCLA Slavic Studies. New Series. М., 1993, Vol. 1. P.299-307.
Фарино 1987: Фарино Е. Как пророк Пушкина сделался лицедеем Хлебникова // Studia Russica. XII. Budapest, 1988. С, 38-74.
Харджиев & Тренин: Харджиев Н., Тренин В. Поэтическая культура Маяковского.М.. 1970.
Хармс 1-1 V: Хармс Д. И. Собрание произведений / Под ред. М. Мейлаха и В. Эрля. Bremen: K-P.-css, 1978-1988.
Хлебников I-IV: Хлебников В. В. Собр. соч.: В 4 т. München: Wilhelm Fink Verlag, 1968-1972.
Хлебников 1986: Хлебников В. Творения. М.. 1986.
Цивьян 1991: Цивьян Ю. Г. Историческая рецепция кино; Кинематограф в России 1896-1930. Рига, 1991.
Шифрин 1999: Шифрин, Б. Маска и естество: морфологическая тема Даниила Хармса // Studia Slavica Finlandensia. Tomus XVI/2, Органическая школа в русском модернизме. С. 175- 196.
Якобсон 1976: Якобсон Р. Игра в аду у Пушкина и Хлебникова // Сравнительное изучение литератур. Л., 1976. С. 35-37.
Ямпольский 1989: Ямпольский М. Б. Зоофизиогномика в системе культуры // Текст – культура – семиотика нарратива: Тр. по знаковым системам 23 / Учен. зап. Тарт. ун-та. Тарту, 1989. Вып. 855. С.63-79.
Cooke 1987: Cooke R. Velimir Khiebnikov: a critical study. Cambridge University Press. 1987.
Ivanov 1990: Ivanov Vjаč. Vs. Хлебников и типология авангарда XX века // Russian Literature. 1990. Vol. XXVII-I. P. 11-20.
Kšicová 1982: Kšicová D. Пушкинские традиции и антитрадиции в поэмах Велимира Хлебникова // Zagadncnia Rodzajyv Literackich XXV. 1982. № 1. С. 43-57
Faryno l991: Faryno, J. Введение в литературоведение. Warszawa, 1991.
Riefenstahl 1995: The Last of Nuba by Leni Riefenstahl. London: The Harvill Press. 1995.
Turbin 1994: Turbin V. N. Хлебников и Пушкин. К постановке вопроса // Studia Slavica Finlandensia. Helsinki, 1994. Т. XI. Р. 141-166.
© И. Е. Лощилов